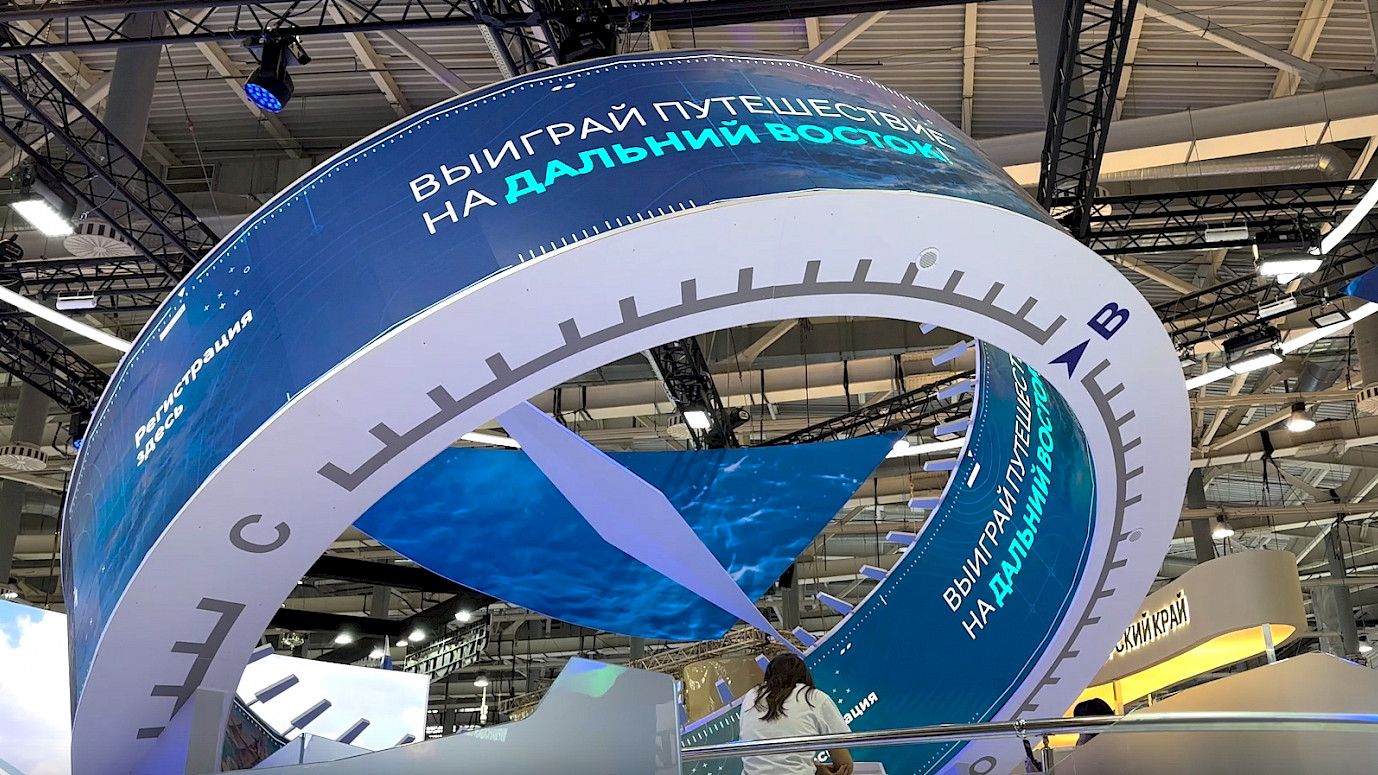Сергей Аплонов: «Если мы сейчас не начнем работы на шельфе, то через 40 лет останемся без нефтегазодобычи». ВИДЕО
Директор Научно-исследовательского центра Арктики СПбГУ Сергей Аплонов эксклюзивно для «Ямал 1» рассказал, какими он видит перспективы развития арктических зон России.
Российская Арктика – что это? Нефть, газ, уникальная экосистема, стратегические логистические коридоры, кладовая твердых полезных ископаемых или северные границы России? Научные исследования по всем этим направлениям ведет Научно-исследовательский центр Арктики Санкт-Петербургского государственного университета. Его директор Сергей Аплонов эксклюзивно для «Ямал 1» рассказал, какими он видит перспективы развития арктических зон России.
– Сергей Витальевич, сегодня очень заметно, что интерес к вузам Северной столицы растет у жителей арктических регионов нашей страны. Как вы думаете, с чем это связано и какие будущие специальности выбирают ваши абитуриенты — абитуриенты СПбГУ?
– Ну, я начну с первой части вопроса. Дело в том, что не только в Санкт-Петербургском университете, но и по всем вузам Санкт-Петербурга, конечно, арктическая тематика, она все больше и больше «лезет в топ». И начали заниматься, в общем, арктической тематикой даже те университеты, которые раньше этим «не грешили». Вот, например, там питерский Политех, ИТМО, моя alma mater Горный институт. Ну, там это традиционно все. Это первое. Второе, я думаю, что причина такого интереса все-таки – те предыдущие шаги, которые мы (я имею в виду Санкт-Петербургский университет) делали последовательно на протяжении уже многих лет, и создали довольно мощную инфраструктуру для научной работы и для образовательной деятельности: это и наш уникальный Научный Парк, два десятка ресурсных центров, которые работают в самых разных областях – это такое уникальное место, в России таких нет и в мире таких тоже не много. Это открытые конкурсы. У нас уже много лет в СПбГУ все конкурсы являются открытыми. Ну, то есть представляете, что это такое, – это университет за свои деньги объявляет конкурс научных работ. Но участвовать в них могут люди не только из университета, а из любого вуза города, и, вообще говоря, мира. И это часто происходит. Они приезжают, и если они конкурс выигрывают, при честной независимой экспертизе, то дальше университет платит за их исследования. И они получают массу льгот. Ну, типа бесплатного пользования Научным парком, библиотекой уникальной и т.д.
– Какой отличный стимул!
– Да! Потом они часто становятся универсантами, то есть переходят к нам на работу, а иногда и не переходят, а иногда и уезжают куда-то еще, в следующий вуз. То есть мы еще и обеспечиваем вот такую академическую мобильность. Это и конкурсы стартапов, которые мы проводим уже восемь или девять лет, это и коммерциализация научных разработок, выполняемых студентами-аспирантами. Так вот, опять же, в этом году первый раз этот конкурс был открытым. Сразу количество участников возросло почти вдвое. И участвуют не только из СПбГУ, а откуда угодно: из Иркутска, из Сыктывкара, из многих университетов. Вот сейчас, в ближайшее время, в июне, будут подведены очередные итоги. И те команды, которые выиграют, независимо от того, они «наши» или «не наши», получат соответствующие преференции. Так что следите за новостями на сайте университета, как говорится. Я-то просто в этом экспертном совете уже восемь или девять лет, поэтому, это все на моих глазах все проходит. Так что все вот эти нововведения и делают СПбГУ таким привлекательным, такой площадкой для научной работы, для педагогической деятельности. И третий момент. Вы знаете, я думаю, здесь какой-то исторический момент. Потому что ведь многие северные университеты, северные научные центры, они же вышли отсюда, из Петербурга. Про это мало кто знает уже сейчас, но дело в том, что такие университеты, как Петрозаводский, Сыктывкарский и так далее – это же были во многом профессора и преподаватели из Санкт-Петербурга.
– Корнями сюда уходят.
– Да, да! Которые просто в 30–40-е годы ХХ века переезжали на Север. Иногда не добровольно. Думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Но они пустили там корни, и, собственно говоря, отсюда вот зародились и Кольский научный центр, и Коми научный центр Академии наук со всеми институтами, и вузы многие. И, естественно, вот это «обратное движение»: они приезжают, учатся, сюда детей посылают.
– По стопам тоже идут. Ну, а какие специальности выбирают сегодня?
– Ой, вы знаете, самые разные. Не всегда они вот так прямо арктические. Дело в том, что наш университет – это так называемый классический университет. У нас есть все. В разной степени развитости, в разной степени успешности, но практически все. Поэтому у нас развиваются арктические исследования и реализуются арктические программы, практически по всему спектру арктических знаний: от гидрометеорологии, изучения климата, который, как всем известно, формируется в Арктике и до какой-нибудь там деревянной архитектуры Севера XVII–XVIII века, такие программы у нас тоже есть. От какой-нибудь там северной медицины, северной генетики до минерально-сырьевой базы Севера. От лингвистических вещей, связанных с языками коренных народов Севера. Вот сейчас мало кто помнит, но дело в том, что письменность северных народов ведь создавалась здесь, в стенах университета в 30-е годы ХХ века нашими филологами.
– Теперь наши же ученые едут туда и находят там следы…
– Конечно, конечно! Но основы были заложены еще тогда. Поэтому довольно трудно сказать, какие специальности. Это может быть изначально даже и не арктическая специальность, а потом будет арктическая специализация. Ну, идет человек изучать какую-нибудь гидрометеорологию или океанологию, конечно, заранее он не знает, в каких морях и океанах он будет работать. Экспедиционно работать. Чем он будет заниматься, Антарктидой или Арктикой. Но если ему приходится заняться Арктикой, – а это, как правило, выясняется уже на ранних стадиях, поскольку мы, стараемся совмещать учебу с практиками и с научной работой, - то тогда они «прикипают» и отправляются туда. Ну, я уж не говорю о всяких гуманитарных и о социополитических вещах, как юриспруденция какая-нибудь, связанная с экологическими проблемами на нефтепромыслах на арктическом шельфе, к примеру. Такие вещи тоже есть.
– А этих самых, будущих североведов, назовем их так, преподаватели сами как-то видят на первом, на втором курсе? Или кто-то решает в процессе обучения: а может быть это, а может быть Арктика?
– И то и то, когда мы проводим профориентационные какие-то мероприятия. Они раньше назывались дни открытых дверей, сейчас они называются презентация образовательных программ – умным современным словом. Конечно, мы рассказываем, что у нас есть, например, специальности, прямо связанные с Арктикой. Рассказываем, в чем они состоят. Дальше выбор обучающиеся делают сами. Никто не заставляет, никто не призывает. Приходит, получилось – хорошо, нет – ну, пошел дальше искать. Тут свободный выбор, но вот этой профориентацией мы как-то рекламируем свои программы. Особенно программы высшего уровня – магистратура, где в основном научная работа. Но выбор, конечно, свободный. Тут никаких у нас лимитов или каких-то норм, таких нормативов нет.
– За последние годы или, может быть, за текущий год, насколько сильно изменился подход в подготовке высококвалифицированных океанологов, геологов, будущих нефтяников? Ведь отрасли очень активно развиваются и приходится постоянно подстраивать учебный план?
– Конечно. Безусловно, это меняется постоянно. Это касается и науки, и бизнеса, где бы там ни работали люди. Мы стараемся поддерживать тесные связи с работодателями. Ну, во-первых, в самом Питере полно научных институтов. Вот, например, те же гидрометеорологи, те же океанологи, работающие в Арктике. Как вы знаете, в прошедшем году, наш партнер и родственный институт – это Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, находящийся здесь, в Питере. Вот у него появилось уникальное такое сооружение – это даже не назовешь судном, не назовешь станцией, это СЛП так называемое – самоходная ледовая платформа. Это то, что уже сейчас должно заменить наши дрейфующие станции «Северный полюс». Вот те, которые первые, 1937 год, «Северный полюс – 1», да? – Папанинская четверка. И дальше эти станции регулярно существовали. На них проводились самые разные наблюдения: метеорологические, гляциологические, гидробиологические и т.д. Но! Арктика тает. И постепенно вот так тянулось где-то до 2013–2014 года. Причем если в 60-70-е годы ХХ века на одной льдине работала станция два – два с половиной года пока льдина не расколется и не растает. Но, начиная где-то с 2010-х годов лед стал настолько слабым, что игра перестала стоить свеч.
– Опасно даже начинать!
– Ну что, ну, ты там высадишь, откроешь огромную станцию, установишь оборудование – три-четыре месяца, льдина растаяла, и «привет»!
– И опасно, и не выгодно.
– Да! И тогда родились программы. Они родились не только в нашей стране. В частности, мы сотрудничали с французскими учеными, которые делали свою ледостойкую платформу. И спустили ее на воду – нашу. Это было в сентябре прошлого года. Она вышла на опытные испытания. Это такая штука, в которой порядка 50-и человек – научный экипаж. Она отправляется, вмерзает в лед, лед ее выдавливает, как судно Нансена Получается, что она на льду. Как только лед разошелся, она может плыть по полыньям и менять свое место, потом снова вмерзать и так далее. То есть, это – то же самое, только гораздо комфортнее, гораздо удобнее, гораздо долговечнее. Автономность у нее два года, может, конечно, и дольше находиться в плавании. Сменные экипажи. Вот теперь наша российская платформа запущена. Конечно, такого до прошлого года не было. А сейчас в первый этот поход уже отправились наши выпускники, и, соответственно, они сразу все это включают в учебные курсы.
– Это еще и такой мобильный индикатор состояния льдов, как вы сказали.
– Конечно.
– Замерзло – судно остановилось.
– Конечно да. То есть идея та же самая, которая была у Нансена, когда он хотел пройти через Северный полюс на шхуне «Фрам», но уже на современном уровне. Это то, что заменяет советские дрейфующие станции, и естественно, здесь – сразу перспективы. Дальше, например, вот в области минерально-сырьевой базы, – в основном это нефть и газ. И в том числе шельфовые проекты. Развитие, например, бизнеса на «Ямал СПГ», вот то, что вам ближе, – один из самых успешных проектов, безусловно, последних 25 лет, реально очень хорошо осуществленный. Конечно, вот такие новые технологии: добыча и сжижение газа за Полярным кругом, транспортировка этого газа, постройка совершенно специальных судов - газовозов ледового класса – все это, что происходило в последние 20–25 лет, конечно, требовало постепенного внесения в учебный курс чего-то нового, практик и прочее и прочее. Сейчас этот проект запущен, великолепно работает.
– Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о том самом принципе, известном из СПбгУ, – образование через науку. Ведь известно, что ваши специалисты, кто участвует в подготовке квалифицированных кадров, вы сами, регулярно отправляются туда для практических заданий, исследований.
– Ну, я бы только не называл это «принципом СПбГУ». Это принцип широко известный.
– Но он «фирменный»!
– Ну, нет. Во всем мире он существовал, так сказать, давным-давно. Конечно, мы бы хотели, чтобы нашим студентам преподавали, особенно на программах высокого уровня – магистратура, аспирантура - те люди, которые сейчас занимаются активной научной работой, а не рассказывают, как они это творчески делали 40 лет назад. Это делается очень тщательной кадровой работой: как подбор, приглашение кадров, так и переподготовка своих кадров. И тогда проходит какое-то время. Это то, что в СПбГУ мы провозгласили своим принципом.
Студент, как правило, уже на самых ранних стадиях начинает заниматься научной работой. Когда я еще был только заведующим кафедрой геофизики, на своей кафедре я ввел правило: любой студент курсовую работу докладывает публично на заседании кафедры. А студентов у нас было много. Мы сидели до 11 часов вечера – все преподаватели, все профессора, все доценты – три или четыре раза, чтоб принять эти работы. Но принцип этот мы внедряли очень жестко и очень настойчиво. Даже если это первокурсник, у которого совершенно компилятивная работа – где-то что-то прочитал, по сути, сделал реферат – все равно должен выйти и за пять минут доложить. Мы так привыкали все к компетенции, которая связана с презентацией.
е только с научной работой, а и с презентацией научных материалов. Вы же все это прекрасно знаете. Совершенно невыносимо, когда человек выступает, и не понимает, что такое время. Ему дается 20 минут, а он, еще до сути дела не дошел на 19 минуте. Когда он нечетко говорит, когда он нечетко формулирует мысль. Вы наверняка видели какие-нибудь презентации, когда вон там написано что-то, причем каким-то шрифтом, серебристыми буквами на голубом фоне, так, что это не прочитать ни при каких обстоятельствах. Так меню в ресторанах пишут, а не презентации научные. И этому тоже учили. Что не надо говорить то, что написано у вас на презентации. Люди умеют читать, они и так прочитают. Это не относится к каким-то талантам – это то, чему надо учить.
И так с первого курса. Это первый момент. Дальше, на втором-третьем курсе, четвертом курсе бакалавриата студент уже начинает где-то работать. Либо в ресурсном центре, либо в лаборатории, на каких-то совершенно служебных пока ролях. Кстати говоря, дальше, в магистратуре и на старших курсах бакалавриата, он еще за это деньги получает. То есть мы брали студентов на работу. Это тоже стало совершенно очевидным стилем работы, который просто постепенно внедрился, и до сегодняшнего дня продолжается. Ну и конечно – практики. Если речь идет о полевых специальностях: геологах, метеорологах, океанологах и т.д., то это обязательный набор летних, а иногда и зимних практик. Это практики могут быть производственные, когда мы прикрепляем студента к какой-то организации в какую-то научную группу, и он отправляется куда-нибудь на Новую Землю или на Таймыр, или еще куда. Вот все вместе оно и дает, что называется research best education. Вот, поскольку я называю вам английский термин, уже можно понять, что это – не СПбГУ.
– История вашего личного знакомства с Российским Севером, если не ошибаюсь, началась на Ямале? Расскажите об этом немного.
– Ой, слушайте… ну да! Я закончил Ленинградский горный институт. Я не универсант. Я в университет пришел только в начале 90-х годов. Я геофизик по узкой специальности. И так получилось, что я работал в производственной организации три года… Четыре! – После окончания Горного института. Это была середина 80-х годов. И мы занимались аэромагнитной и гравиметровой съемками над нефтяными полями Ямала и Гыдана. Дальше я перешел в Академию наук в Институт океанологии. И моя кандидатская диссертация, которую я защитил в 1986 году (мне было 26 лет) и докторская через 3 года были связаны с Западной Сибирью. Ну, докторская – уже не только с Западной Сибирью, а вот кандидатская целиком была такая, региональная. Вот мой бэкграунд, связанный с Ямалом. Да, с Нового Порта и до этих месторождений, которые сейчас так активно вовлечены в промышленную обработку.
Кстати говоря, это очень важная вещь, она уже относится не к образованию, скорее, а к экономике. Понимаете, какая вещь: то, что является сырьевой базой, скажем, проекта «Ямал СПГ», все эти месторождения, они были найдены, а некоторые разведаны, когда я был студентом. Это было 40 лет назад. А сейчас, наконец, заработали. Геология очень инерционна. А для того, чтобы ввести месторождение от открытия до эксплуатации, нефтяное или газовое, – это 20–25 лет. И когда сейчас идут разговоры: надо изучать шельф или не надо изучать шельф, – надо понимать, что, сейчас-то шельф не нужен, когда весь Ямал набит газом на 400 лет вперед. Ну, во-первых, мы не знаем потребления. Мы не знаем, какие будут источники энергии. Мы не знаем, перейдем и когда мы перейдем на водородные источники, а это тоже природный газ отчасти. А во-вторых, если мы сейчас начнем на шельфе, так это лет через 40 мы будем готовы. А если не начнем, то через 40 лет мы останемся без минерально-сырьевой базы нефтегазодобычи.
– Как раз хотела спросить, как вы считаете, кадровая политика современных бизнес-структур, позволяет она сегодня надеяться совсем молодым еще студентам на то, что они могут оказаться там, в этих крупных компаниях, которые сегодня работают в Ямало-Ненецком автономном округе? Или же это настолько узкие и сложные специальности, которые раскрываются с годами, и туда приходят в уже зрелом возрасте?
– Ну, знаете, и так и так бывает. Через меня прошли и те, и другие случаи. Во-первых, конечно, уже не сейчас, а уже 25 лет, все зависит от работодателя там на месте. Ну, понимаете, когда вас, приглашают непонятно чем заниматься и получать за это нищенскую зарплату, то для современного молодого человека это выглядит не комильфо. Давным-давно уже, лет 20 назад, наши ребята, окончив университет, иногда даже, кстати, окончив бакалавриат, – четыре года обучения и еще до магистратуры, – уезжали куда-нибудь в Якутию, на тот же север Западной Сибири, Коми и так далее. Почему? Ну, во-первых, они женились – у них дети. Там квартиры давали сразу. Вот в те регионы, которые давали квартиры, в них и ехали! Ну, вы понимаете, купить квартиру в Питере или в Москве недоступно для выпускника, а там это – сразу. Современным молодым людям надо все и сразу, сейчас. Ну, в общем, в этом они правы – нечего откладывать. Можно потом чем-нибудь другим заняться. Это одна сторона задачи. Здесь даже финансовый вопрос вторичен. Первично, конечно, это интересная работа. То есть, если это интересная большая работа, молодые люди, выпускники, они это сразу чувствуют. Мгновенно.
– Соглашаются и на «вахтовки», да?
– Конечно, конечно! Нет, условия могут быть очень тяжелые, еще покруче «вахтовок». Это могут быть какие-нибудь санно-гусеничные походы где-нибудь на севере Якутии. Там условия могут быть экстремальные, но тем не менее молодежь на это идет. И это даже касается не только выпускников, а это касается вообще мобильности современной науки и, так сказать, преподавания. Я разговаривал с ректором одного из северных вузов. Этот вуз стал научно-образовательным центром. Ну, и сразу возникла кадровая проблема, потому что надо же работать на мировом уровне - у них же это написано. Не будет мирового уровня – денег не дадут. Ну, и она мне жаловалась.
Говорит: да вот, что, вот это, где кадры взять, где это… «Ну ты же не поедешь», – говорит она мне. – А почему ты так сразу решила, что я не поеду? Нет, ну, на 25 тысяч с комнаты в общежитие я, естественно, не поеду. Ну, уже уровень просто не тот, я не молодой специалист. Но, прости, вам дают огромные деньги! Хватит их распиливать внутри своего вуза, где кадров все равно нет по определению. Приглашайте их. Опыт такой тоже есть, нашего университета, например. Какое количество мы приглашали и приглашаем людей, которые приезжают со всех уголков мира работать здесь, по этим конкурсам мега-лабораторий! Сейчас я не знаю, сколько их, а пока я был проректором по научной работе, их было там 26 штук. Часть из них была создана по государственным субсидиям, а часть мы создавали за свои деньги – это был самый, так называемый, научный топ.
Мы прекрасно знаем, что здесь мы вот так сразу не найдем кадры – их еще готовить надо. А делать-то надо прямо сейчас. Ведь для того, чтобы готовить, надо чтобы были условия. Они должны быть не через десять лет, а сейчас, чтобы через десять лет появились собственные кадры. То же самое можно повторить в любом уголке мира. Это серьезная вещь, которая, кстати, очень ограничивает мобильность. Это поразительная вещь, но я по опыту работы здесь, в университете, не сейчас, конечно, в связи с понятными обстоятельствами, а лет пять-шесть назад, у нас мобильность с зарубежными университетами была на порядок, если не на два порядка выше, чем мобильность между университетами внутри России. Это же не дело, понимаете?!
То есть, нет, хорошо, что они ездят в Америку, в Австралию, куда угодно, это прекрасно, но вообще – могли бы! И только последние лет десять, наверное, это дело сдвинулось в лучшую сторону. То есть начали уже и в России университеты между собой ездить. Тут, конечно, и объективные причины. Понятно, что за один день ты не создашь эту базу и тут нужно просто последовательно, и кропотливо, и целеустремленно этим заниматься. Чем, собственно, наш университет, ну и мне посчастливилось, в этом участвовать, мы и занимались. И добились какого-то результата. Но второе – это такие, как бы сказать ласково, комплексы. Когда, понимаете, какой-нибудь большой начальник из Новосибирска мне начинает говорить: да кто к нам поедет, хорошо вам там, в Москве, а мы тут живем, медвежий угол и т.д. – Новосибирск!
Я говорю: товарищи дорогие, вы себя слышите? Что вы говорите? Какой медвежий угол? – Четыре часа полета из Москвы! Вот я к вам прилетел. Я бывал в университетах Аляски в Анкоридже и Фербенксе. Я туда летел 36 часов с четырьмя пересадками. Ну реально это так! И они себя медвежьим углом не считают! И там великолепные, кстати, арктические университеты.
– Так и вы, наверное, летели и глаза горели!
– И я летел – глаза горели, и они принимали – глаза горели! А когда у людей глаза скучные, так у них, заранее можно сказать, что ничего не получится! Так что, вот такие вещи.
– А в глазах молодых вы сегодня что видите? Вот тех, кто нацелился на нефтегазовую отрасль. Больше романтики или больше возможности получать хорошие зарплаты, дополнительный отпуск, надбавки?
– Слушайте, и то, и то. И социальный пакет, и зарплата, но и романтика тоже. И главное – участие в чем-то, что ты понимаешь, какой будет результат. Ну, слушайте! Это же известная история! У нас все хотели работать в «Газпроме». А я потом объяснял. Я говорю: пожалуйста, я договорюсь – на Ямбург, на Медвежье, в Новый порт, куда угодно! А если вы хотите на улицу Наметкина, – тогда еще там весь «Газпром» находился, – то туда попадают, извините, после 25 лет работы на месте, в том же Ямбурге, в том же Уренгое. Но это реально так. Поэтому поняли.
– Квалифицированных рабочих как раз сегодня очень не хватает. Недавно статистику проводили. Вот такие специалисты, как вы считаете, будут сегодня идти? Или сегодня все хотят сразу.
– Рабочих, вы имеете ввиду? Именно рабочие специальности?
– Да, рабочие специальности. Насколько рабочие специальности сегодня тоже привлекают современную молодежь? Или боятся все-таки? Или это уже стереотип?
– Ну, здесь уровень моей компетенции, конечно, падает сразу вдвое как минимум, потому что я никогда не работал именно с подготовкой рабочей молодежи техникумов, колледжей, как они там сейчас называются. Да нет, я думаю, что это тоже можно организовать. Это не так сложно. Скорее всего, это дело компаний, безусловно. И те удачные примеры, которые я видел, были как раз компании. Они делали специализированные классы под себя, чтобы не было и переизбытка кадров, и вот… думаю, что можно. Слушайте, когда-то давно очень, я еще деканом геологического тогда факультета был, это 2010–2011 год, ко мне пришел наш выпускник, такой Павел Соколов.
Вот вы наверняка знаете, женщинам это должно быть хорошо известно, «Самоцветы от Соколова», вся эта реклама – это вот он. Он наш выпускник.Он прекрасный минералог. И он мне предложил: слушай, давай сделаем класс, где будем готовить людей со средним образованием, гранильщиков камней, самоцветов. Оказывается, камни гранят десять тысяч лет, наверное, сколько существует человеческая цивилизация! До сих пор находят, оказывается, новые формы. А с нашими сейчас появившимися возможностями техническими!.. Представляете, когда говорят, что камень, какой-то там рубин или изумруд, вот он «играет», что это означает? Это означает, что на грань падает свет, преломляется и через другую грань выходит оттуда. Значит, надо рассчитать углы граней таким образом, чтобы рассчитать преломление.
– Это уже что-то из оптики.
– Это из оптики абсолютно. Чистая оптика. Но! Если камень достаточно крупный, то коэффициент преломления может меняться в различных частях этого камня. А мы можем, не разрушая камень, с помощью современной аппаратуры, которая стоит в наших ресурсных центрах, изучить коэффициент преломления по объему камня. Это дает новые возможности огранки. И вот это мы сделали. Причем Соколов говорит: слушай, там много не надо, если пять человек в год будут выпускать – это будет шикарно. Я туда привезу всю аппаратуру, все эти гранильные станки, все за свои деньги куплю, все там сделаю, – это к вопросу о том, как бизнес помогает образованию. И некоторое время мы были первыми.
В 1995 году открылось направление «геммология» – часть минералогии, которая связана с драгоценными и поделочными камнями. И оно у нас до сих пор процветает. Блестящие совершенно эксперты работают. Но это вы отдельно интервью возьмете – там есть, о чем рассказать и что показать. Это фантастически интересно! Я, имея геологическое образование, хотя я и геофизик, наверное, девять десятых вещей узнал в практической работе. Это к вопросу, бывают ли готовые специалисты. Наверное, нет. Но десять процентов – ты обязан получить. И получить качественного образования. Иначе дальше не пойдет. Учиться и учиться, так скажем. Но это безумно интересные вещи, когда этим люди занимаются. Ну, во-первых, они все знают. Вы им покажите издали, на расстоянии три метра какой-нибудь «брульянт», так они вам мгновенно скажут не просто сколько он весит в каратах, а еще и с какого месторождения он взят. Они занимаются, чем угодно!
Они по всему городу: по музеям, церквям, по храмам – всюду же поделочные драгоценные камни участвуют. И для описания какого-нибудь объекта, культурно-исторической ценности, будь то корона, будь то ларец, какой-нибудь сундук, еще чего-нибудь такое – приглашают наших специалистов. Они там такое вытворяют! Это жутко интересно.
– Возвращаясь к вашей ямальской истории, люди, ямальцы, вам знакомы. Как вы думаете, перспективы развития арктических регионов России в целом, они все-таки больше связаны с огромным количеством полезных ископаемых там или с людьми?
– Трудно сказать. Понимаете, сейчас ситуация, вы ее знаете прекрасно, все это описывается тремя цифрами, которые легко запомнить: 20–2–20. Российская Арктика, то что называется АЗРФ – Арктическая зона Российской Федерации – это примерно 20% территории России. На этой территории живет меньше двух процентов населения. Замечу, это не только коренные народы, а это все, кто там постоянно живут. Это и нефтяники, и военные, и… ну не вахтовики, конечно, которые на две недели приезжают, но…
И вот эти 2% населения России, которые живут в Арктике, в АЗРФ, – это больше, чем половина населения Арктики всего мира, так что… Ну, и наша Арктика просто больше по площади. Но там производится больше 20% валового внутреннего продукта страны. Это, конечно, газ преимущественно. В гораздо меньшей степени – нефть. Будет ли так дальше? – Надеюсь, что нет. Все-таки здесь потенциал огромный. Это все что угодно. Это может быть туризм. Это могут быть какие-то, ну, я не знаю… Во-первых, Арктика, даже если брать только геологию, то Арктика, скорее всего, в ближайшие 10–20 лет, будет все более «твердой» становиться. Потому что твердые полезные ископаемые, – ну не в Западной Сибири, на Ямале, а вот скажем в Якутии и прочее, – причем высоколиквидные, они занимают огромную роль уже в нынешней экономике страны.
А в ближайшие 10–20 лет, это точно, будет только развиваться. Тут вопрос: надо к этому готовиться? Одна из основных проблем – это конечно гармонизация жизни в Арктике. Там же живут не только коренные народы Севера, а там живут военные, геологи, нефтяники, гидрометеорологи и прочее и прочее. Как совместить их? Как сделать взаимодействие устойчивым, добиться устойчивого развития? Бизнес и проблемы экологии, бизнес и проблемы культурного наследия – это важнейшая вещь. На самом деле, здесь у нас всегда существовало некоторое расхождение с нашими западными коллегами, которые в Арктике работают. Например, для американских и канадских коллег, для них всегда изучать народонаселение Арктики – это изучать коренные народы, их быт, их искусство, поделки – все! А с нашей стороны – Финляндия, Швеция, Норвегия, соответственно и Россия – здесь несколько иной подход. Подход к такой как раз гармонизации тех, кто там живет, работает. Ну, как бы белых и коренных, условно говоря.
Я все время у американских и канадских коллег спрашивал: господа хорошие, ну послушайте, коренное население – всего 10–12% населения Арктики всей. Где больше, где меньше. Я говорю: как же изучать народонаселение Арктики, заниматься там социологией, еще чем-то и не учитывать некоренное население, которое тем не менее работает в Арктике? – Нет! Вот только, только… Я говорю: ну, это же прямой путь в резервации! Вот куда индейцев, собственно говоря, отправили 200 лет назад, к чему это приведет? Ну, потом, правда, они мне честно сказали, что, вот, ты понимаешь, чтобы получить какой-нибудь грант из государственного фонда, что американского, что канадского, – это должны быть местные жители. Все. Точка. Желательно, чтобы это было какое-нибудь гендерное меньшинство, желательно еще инвалид, обязательно коренное население. Вот если ты это все дело ухватишь, тогда вот, – да! Обязательно – это там гендер, нетрадиционная ориентация… ну, то есть, чтобы все было вместе! Я не знаю, к чему это приведет. Думаю, что это все выправится со временем.
Но, возвращаясь к нашим российским проблемам, конечно, это очень важно. И вот посмотрите: все, так сказать, документы, – пока! – ну, которые есть по Арктике, все эти стратегии, планы государственного развития и прочее – одна страница противоречит другой странице. Это все правильно. Но если вы возьмете любой вопрос, не знаю, – газ добывать. Ну-ка, идите договоритесь с местным населением, с ненцами, которые живут на Ямале! Сколько это копий было сломано, пока достигли хоть какого-то хрупкого равновесия. И экологические мероприятия надо, и, соответственно, эти народы поддерживать. Сейчас крупные компании, которые там работают, конечно, этим занимаются. А в 90-е, в начале нулевых годов, это было только противостояние: «Да что мы тут будем спрашивать?! Земля наша, федеральная собственность, закон о недрах читайте». И так любые проблемы.
Проблема, которая сейчас на слуху – Северный морской путь. Только ленивый о нем не говорит. Ну и что? На одной странице написано, одни говорят, что Северный морской путь должен стать международной артерией. А военные глядят на это и говорят: вы товарищи… у вас все хорошо с головой-то?! Извините, часть Северного морского пути проходит не то что в экономзоне, а в территориальных водах Российской Федерации, о каком заявительном принципе вы говорите?! И те, и другие правы. Просто экологи в основном считают, что не нужно вообще никакую деятельность в Арктике вести, потому что это действительно хрупкая экологическая система. Другие считают, что Арктику нужно вовлекать, соответственно, в индустриальные обороты. Вот это и называется устойчивым развитием. Это и надо гармонизировать, эти отношения в Арктике.
– И плюс мы сейчас затрагиваем такую тонкую тему, как мы все говорим, душой и сердцем болеть за свою территорию, за свой регион. И здесь, мне кажется, у вас, у высших учебных заведений, стоит такая непростая задача: одновременно выпустить высококвалифицированные кадры и, с другой стороны, не отнять их у родных регионов. А сделать так, чтобы все-таки те полученные у вас знания они применили потом там, на своих родных территориях. Удается ли это сегодня?
– Я так скажу – не все удается. Но то, что удается сегодня – это гораздо больше, чем было лет 20–25 назад. Эта проблема сильно выходит за университетские и даже за общенаучные рамки. Это проблема, конечно, социального развития регионов, то есть государства. И, в еще большей степени, это проблема бизнеса, который работает в Арктике. Ну, мы про это уже говорили. В последние годы, я считаю, что положительный тренд в этом плане есть. Многие едут. А многие приезжают сюда, а уезжают исследовать Антарктиду, а наши приезжают им взамен. Это тоже, наверное, нормально.
– В заключение беседы расскажите, пожалуйста, Научно-исследовательский центр Арктики СПбГУ на сегодняшний день и на самые ближайшие перспективы, какие основные задачи перед собой ставит?
– Задачи, собственно говоря, у нас не менялись. Научно-исследовательский центр Арктики, открою секрет, он по моей инициативе был создан, еще когда я был проректором по научной работе, поскольку видно было, что Арктика все больше и больше входит в топ. Мы в меньшей степени сами выполняем научные исследования, хотя и называемся Научно-исследовательским центром Арктики. На самом деле наша задача – координировать те исследования, которые происходят в университете. Пытаться создать какие-то новые направления, то есть подсказать, как объединиться самым разным ученым для выполнения мультидисциплинарных исследований, а в Арктике это очень важно. Не имеет смысла, как вот в мою юность: ну, ты геолог и геолог, ты там нефть, газ ищешь, ну все, «зашибись»! Любой нефтегазовый проект – это все равно геология. И это самое важное, конечно! Но это еще и экономика, это правовые, налоговые и так далее проблемы и экология еще. Конечно, геологию можно считать основной, поскольку если нефти, газа нету, то вам никакая налоговая система не поможет. Но, тем не менее эффективный, конечно, тот проект, который выполняется изначально несколькими группами специалистов. И вот, мы стараемся как раз объединить их в такие кластеры, получить какие-то новые гранты, проекты помогаем исследователям. И еще задача, но больше уже моя, а не всего Центра – это представление арктических интересов СПбГУ, чем я сейчас и занимаюсь.
– Ну, а вас-то лично Арктика не манит, не тянет физически сейчас? Может быть снится?
– Я продолжаю работать. Я в какой-то степени вернулся в профессию, я занимаюсь и собственной научной работой. Это связано как раз с научным обоснованием нефтегазопоисковых работ на шельфе арктическом. Это моя тема, я ей занимаюсь уже лет 30, наверное, но продолжаю.
– Сергей Витальевич, спасибо вам огромное за увлекательную беседу. Заразили еще большей любовью к Арктике, спасибо большое!
– Спасибо, было приятно!
Увидели опечатку или ошибку в тексте? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter